Мы используем cookie. Это обеспечивает сайту правильную работу, а нам дает возможность анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Пятидесятые: три иркутские истории об идеале
о попытках реанимировать советский идеал с помощью сибирского мифа о больших стройках
«Строители иркутской ГЭС». Иван Несынов
Иркутск периода «оттепели» — столица края большого будущего. Будущее было не просто обещано — изменения происходили на глазах, а их необратимость и масштаб были очевидны. Сибирские стройки были частью этого будущего и имели прямое отношение к самым заметным в культуре «оттепели» событиям. Причём произведения пятидесятых связаны со строительством Иркутской ГЭС, а шестидесятых — с Братской.
Иркутск периода «оттепели» — столица края большого будущего. Будущее было не просто обещано — изменения происходили на глазах, а их необратимость и масштаб были очевидны. Сибирские стройки были частью этого будущего и имели прямое отношение к самым заметным в культуре «оттепели» событиям. Причём произведения пятидесятых связаны со строительством Иркутской ГЭС, а шестидесятых — с Братской.
Иркутская ГЭС — это книга поэм Александра Твардовского «За далью — даль», повесть Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды» и пьеса Алексея Арбузова «Иркутская история». Главы поэмы Твардовского публиковались на протяжении пятидесятых годов. Вышедшая летом 1957 года повесть «Продолжение легенды» стала едва ли не первой заявкой нового журнала «Юность» на открытие нового литературного поколения. «Иркутская история» была поставлена в театре имени Вахтангова в самом конце 1959 года и уже в 1960-м достигла лидерства в репертуаре советских театров.
Братская ГЭС — это полотно Виктора Попкова «Строители Братска» (1960−1961), знаковая картина для «сурового стиля». Это цикл песен Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова и Сергея Гребенникова (1962−1968). И это поэма Евгения Евтушенко «Братская ГЭС» (1965).
Эту распределённость строек по десятилетиям невозможно объяснить тем, что общественное внимание переместилось с одной большой стройки на другую — более крупную. Братская ГЭС была предметом активной пропагандистской кампании начиная с 1955 года. Она стала символом энтузиазма и освобождения (социокультурных оснований для этого было достаточно). Подобной символической нагрузки у строительства Иркутской ГЭС не было. И в произведениях, которые названы (у Твардовского и Кузнецова) символическим предстает только одно событие - перекрытие Ангары. В то же время многие эпизоды, персонажи, диалоги в повести Кузнецова напоминают о том, что на большой стройке есть и пьянство, и преступления, и рвачество. И главное, что эти эпизоды говорят не об исключениях, а о части атмосферы стройки и поселка строителей. Отголоски этого есть и в пьесе Арбузова.
Иркутская ГЭС явно интересует авторов не масштабом свершений. То, что происходит на стройке под Иркутском, становится полем художественного исследования в поиске аргументов для утвердительного ответа на вопрос: жив ли идеал? Это вопрошание автора и/или его героев прочитывается во всех трёх названных произведениях как заявка на необходимость и серьёзность диалога с читателем/зрителем.
Братская ГЭС — это полотно Виктора Попкова «Строители Братска» (1960−1961), знаковая картина для «сурового стиля». Это цикл песен Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова и Сергея Гребенникова (1962−1968). И это поэма Евгения Евтушенко «Братская ГЭС» (1965).
Эту распределённость строек по десятилетиям невозможно объяснить тем, что общественное внимание переместилось с одной большой стройки на другую — более крупную. Братская ГЭС была предметом активной пропагандистской кампании начиная с 1955 года. Она стала символом энтузиазма и освобождения (социокультурных оснований для этого было достаточно). Подобной символической нагрузки у строительства Иркутской ГЭС не было. И в произведениях, которые названы (у Твардовского и Кузнецова) символическим предстает только одно событие - перекрытие Ангары. В то же время многие эпизоды, персонажи, диалоги в повести Кузнецова напоминают о том, что на большой стройке есть и пьянство, и преступления, и рвачество. И главное, что эти эпизоды говорят не об исключениях, а о части атмосферы стройки и поселка строителей. Отголоски этого есть и в пьесе Арбузова.
Иркутская ГЭС явно интересует авторов не масштабом свершений. То, что происходит на стройке под Иркутском, становится полем художественного исследования в поиске аргументов для утвердительного ответа на вопрос: жив ли идеал? Это вопрошание автора и/или его героев прочитывается во всех трёх названных произведениях как заявка на необходимость и серьёзность диалога с читателем/зрителем.
Потребность в реанимации идеала была у людей, переживавших десталинизацию. Реанимация советского идеала – утверждение исторических смыслов человеческого существования. В пятидесятых годах эти смыслы ищутся не в официальной идеологии. Десталинизация – это прежде всего утрата сакральности власти. Идеал жив, если у него есть основания не только в историческом замахе и декларациях о будущем человечества, но обязательно в повседневности или, говоря языком того времени, в толще народной жизни.
Вопрос, который уже не может звучать риторически, даже если автор знает, что ответит на него утвердительно, должен быть переформулирован таким образом: есть ли в советской жизни «настоящее»? К середине пятидесятых годов достаточно очевидно, что в столицах «настоящее» найти трудно (если вообще возможно), пространством «настоящего» становится Сибирь.
Советское как народный идеал.
Александр Твардовский
Александр Твардовский
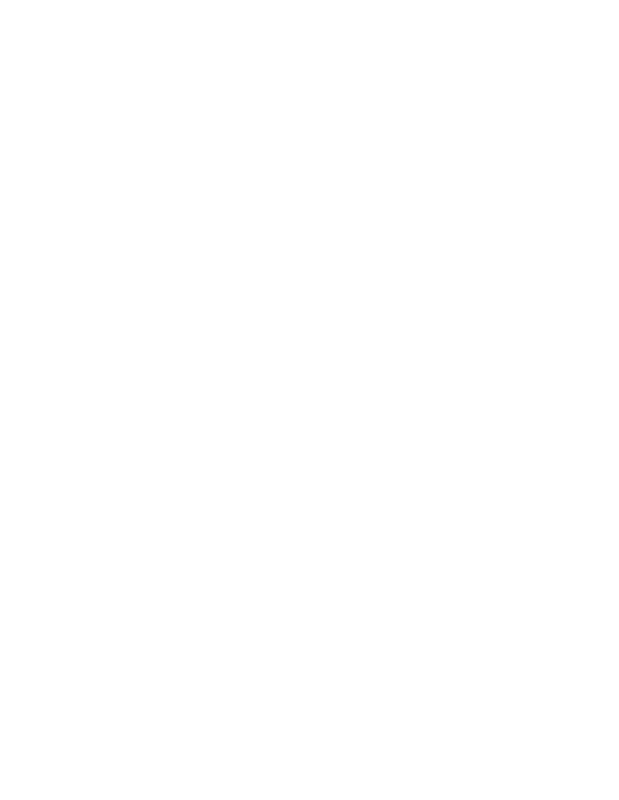
Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Русская литература XX века (1950 -1990-е годы) / Н.Лейдерман, М. Липовецкий – М.: Академия, 2010.
В истории русской литературы последних советских десятилетий Наума Лейдермана и Марка Липовецкого есть глава «Соцреализм с человеческим лицом». В неё входят очерки о Василии Гроссмане и Александре Твардовском. Литературоведы оценивают роман «Жизнь и судьба» Гроссмана как завершение и одновременно подрыв эпической традиции советской литературы и заключают:
“
Продолжать её — означало закрывать глаза на противоречия, скрытые в народе и его сознании, в конфликте между личностью и историей, в трагедийности противостояния «отдельного человека» машине государства.
Продолжать её — означало закрывать глаза на противоречия, скрытые в народе и его сознании, в конфликте между личностью и историей, в трагедийности противостояния «отдельного человека» машине государства.
Далее следует очерк о творчестве Александра Твардовского, где авторы отводят поэме «За далью даль» значимую роль — «выламывания из социалистического канона». Имеется в виду «выламывание» как процесс, но процесс незавершённый: Твардовский не допускает вины народа, а сосредоточен исключительно на поиске собственной вины.
Книга поэм складывалась на всём протяжении пятидесятых годов. С первых глав, опубликованных уже в 1951 году, поэт создавал панораму жизни великой страны, продвигаясь вместе с лирическим героем по Транссибу. Назовём лейтмотив этих первых глав вслед за литературоведами «пафосом единения». Автора — с читателем, пассажиров — как «родни», а Урала, Волги, Сибири и Смоленщины — как Родины. И в этом движении по краям и весям, в путевых впечатлениях и в вагонных спорах открывались и утверждались бесспорные основания советской веры, представшие в поэме более надёжными, чем разрушенное обожествление вождя.
Эпическое восприятие страны, окрашенное послевоенным ощущением победы и советского завоевания, включало и сталинскую тему. Когда книга в 1960 году была опубликована целиком, «сталинская» глава («Так это было») стала завершающей — предшествующей эпилогу. Но рождалась, переписывалась, переосмыслялась она с 1953 года, будучи первоначально траурным откликом на смерть вождя.
В итоговом варианте главы прочитываются не только строфы, но интонации первых вариантов: энергия поэтического размышления ведет читателей от «тех» к «этим» годам как от эпохи обожествления вождя-отца к эпохе народной зрелости. Тема десталинизации сознания решена в поэтике эпоса и вплетена в тему народного единения — лейтмотива книги. И начиналась она для поэта в 1953 году как тема эпическая, о чём он пишет в дневнике:
Книга поэм складывалась на всём протяжении пятидесятых годов. С первых глав, опубликованных уже в 1951 году, поэт создавал панораму жизни великой страны, продвигаясь вместе с лирическим героем по Транссибу. Назовём лейтмотив этих первых глав вслед за литературоведами «пафосом единения». Автора — с читателем, пассажиров — как «родни», а Урала, Волги, Сибири и Смоленщины — как Родины. И в этом движении по краям и весям, в путевых впечатлениях и в вагонных спорах открывались и утверждались бесспорные основания советской веры, представшие в поэме более надёжными, чем разрушенное обожествление вождя.
Эпическое восприятие страны, окрашенное послевоенным ощущением победы и советского завоевания, включало и сталинскую тему. Когда книга в 1960 году была опубликована целиком, «сталинская» глава («Так это было») стала завершающей — предшествующей эпилогу. Но рождалась, переписывалась, переосмыслялась она с 1953 года, будучи первоначально траурным откликом на смерть вождя.
В итоговом варианте главы прочитываются не только строфы, но интонации первых вариантов: энергия поэтического размышления ведет читателей от «тех» к «этим» годам как от эпохи обожествления вождя-отца к эпохе народной зрелости. Тема десталинизации сознания решена в поэтике эпоса и вплетена в тему народного единения — лейтмотива книги. И начиналась она для поэта в 1953 году как тема эпическая, о чём он пишет в дневнике:
“
Даже если представить, что его ошибки в 100 раз больше, чем покамест говорят, он — всё равно он, он огромная, главная, может быть половина нашей жизни.
13 сентября 1955
13 сентября 1955
Даже если представить, что его ошибки в 100 раз больше, чем покамест говорят, он — всё равно он, он огромная, главная, может быть половина нашей жизни.
13 сентября 1955
13 сентября 1955
Это первая полная публикация дневников. Журнальная публикация (Знамя, 1989, №№ 7-9), на которую опирались Н. Лейдерман и М. Липовецкий, содержала те записи, которые с изъятиями отобрал сам Твардовский, и начиналась с записи от 29 декабря 1953 года.
Заметим, что в июле 1953 года Александр Твардовский строчкой в дневнике обозначил появление замысла «Друг детства» как главы об аналогичной встрече на станции, но не с репрессированным, а, напротив, с другом, ставшим большим человеком «восточной промышленности».
Твардовский А. Т. Дневник: 1950-1959 / Александр Твардовский; [подготовка текста, предисловие, коммент., указ. имен В. А. и О. А. Твардовских]. – М.: ПРОЗАиК, 2013.
Твардовский А. Т. Дневник: 1950-1959 / Александр Твардовский; [подготовка текста, предисловие, коммент., указ. имен В. А. и О. А. Твардовских]. – М.: ПРОЗАиК, 2013.
«Выламывание» из канона Наум Лейдерман и Марк Липовецкий, ссылаясь на рабочие записи Твардовского, соотносят с его работой над главой «Друг детства», с возникновением сюжета о краткой встрече на станции Тайшет с другом, возвращающимся из лагерей. Именно эта работа, по мнению литературоведов, вывела поэта из ощущения кризиса, если не тупика в создании поэмы. Твардовский был склонен оставить замысел, поскольку одическая поэтика первых глав, созвучная образу народа-победителя, видимо, оказалась исчерпанной, неуместной для новых времен. А работа над «Другом детства» вернула Твардовского к поэме.
Здесь необходимо уточнение. В опубликованных отдельным томом дневниках Твардовского за 50-е годы замысел главы о встрече с возвращающимся из заключения другом впервые упоминается в марте 1955 года, а по предшествующим записям можно понять, что работа над поэмой «не шла» с конца 1953 года. В 1955 году, то есть с началом работы над «Другом», поэма снова пишется интенсивно и регулярно, но также регулярны в дневнике свидетельства о трудностях, критических для продолжения «За далью — даль» как единого произведения. С 1955 года высказывается даже намерение отказаться от работы над поэмой, совершенно определенно связанное с «Другом детства». Мысль об отказе сохраняется даже тогда, когда глава написана и зачитывается первым слушателям.
Параллельно возникает идея — сделать главу отдельным произведением:
Здесь необходимо уточнение. В опубликованных отдельным томом дневниках Твардовского за 50-е годы замысел главы о встрече с возвращающимся из заключения другом впервые упоминается в марте 1955 года, а по предшествующим записям можно понять, что работа над поэмой «не шла» с конца 1953 года. В 1955 году, то есть с началом работы над «Другом», поэма снова пишется интенсивно и регулярно, но также регулярны в дневнике свидетельства о трудностях, критических для продолжения «За далью — даль» как единого произведения. С 1955 года высказывается даже намерение отказаться от работы над поэмой, совершенно определенно связанное с «Другом детства». Мысль об отказе сохраняется даже тогда, когда глава написана и зачитывается первым слушателям.
Параллельно возникает идея — сделать главу отдельным произведением:
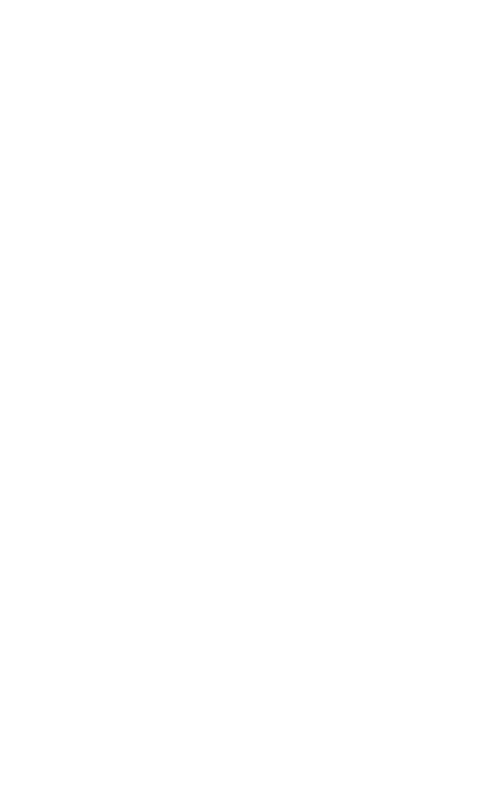
Твардовский А. Т. Дневник: 1950-1959 / Александр Твардовский; [подготовка текста, предисловие, коммент., указ. имен В. А. и О. А. Твардовских]. – М.: ПРОЗАиК, 2013.
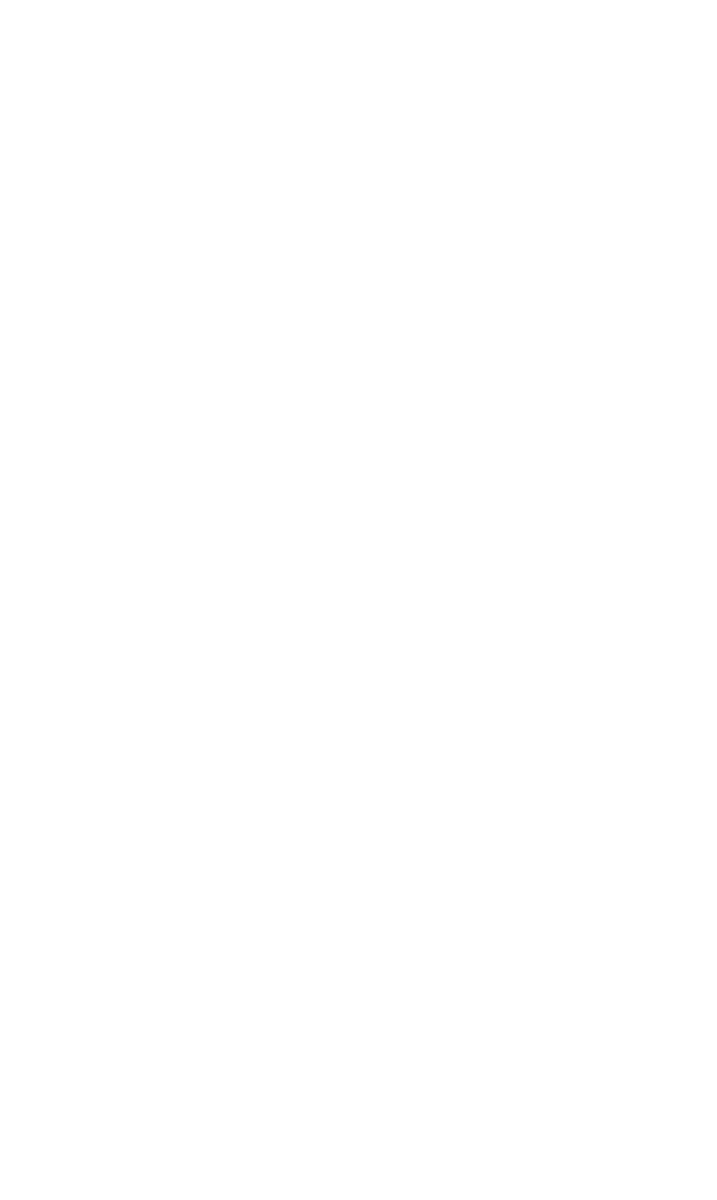
Твардовский А. Т. Дневник: 1950-1959 / Александр Твардовский; [подготовка текста, предисловие, коммент., указ. имен В. А. и О. А. Твардовских]. – М.: ПРОЗАиК, 2013.
«Выламывание» из канона Наум Лейдерман и Марк Липовецкий, ссылаясь на рабочие записи Твардовского, соотносят с его работой над главой «Друг детства», с возникновением сюжета о краткой встрече на станции Тайшет с другом, возвращающимся из лагерей. Именно эта работа, по мнению литературоведов, вывела поэта из ощущения кризиса, если не тупика в создании поэмы. Твардовский был склонен оставить замысел, поскольку одическая поэтика первых глав, созвучная образу народа-победителя, видимо, оказалась исчерпанной, неуместной для новых времен. А работа над «Другом детства» вернула Твардовского к поэме.
Здесь необходимо уточнение. В опубликованных отдельным томом дневниках Твардовского за 50-е годы замысел главы о встрече с возвращающимся из заключения другом впервые упоминается в марте 1955 года, а по предшествующим записям можно понять, что работа над поэмой «не шла» с конца 1953 года. В 1955 году, то есть с началом работы над «Другом», поэма снова пишется интенсивно и регулярно, но также регулярны в дневнике свидетельства о трудностях, критических для продолжения «За далью — даль» как единого произведения. С 1955 года высказывается даже намерение отказаться от работы над поэмой, совершенно определенно связанное с «Другом детства». Мысль об отказе сохраняется даже тогда, когда глава написана и зачитывается первым слушателям.
Параллельно возникает идея — сделать главу отдельным произведением:
Здесь необходимо уточнение. В опубликованных отдельным томом дневниках Твардовского за 50-е годы замысел главы о встрече с возвращающимся из заключения другом впервые упоминается в марте 1955 года, а по предшествующим записям можно понять, что работа над поэмой «не шла» с конца 1953 года. В 1955 году, то есть с началом работы над «Другом», поэма снова пишется интенсивно и регулярно, но также регулярны в дневнике свидетельства о трудностях, критических для продолжения «За далью — даль» как единого произведения. С 1955 года высказывается даже намерение отказаться от работы над поэмой, совершенно определенно связанное с «Другом детства». Мысль об отказе сохраняется даже тогда, когда глава написана и зачитывается первым слушателям.
Параллельно возникает идея — сделать главу отдельным произведением:
“
В «Друге» есть самостоятельное содержание, и, примыкая по сюжетной ниточке к тому [к главам, написанным в начале 50-х], он может быть и отдельным делом.
В «Друге» есть самостоятельное содержание, и, примыкая по сюжетной ниточке к тому [к главам, написанным в начале 50-х], он может быть и отдельным делом.
Заметим, что альманах с главой «Друг детства» был сдан в печать за неделю до закрытого заседания ХХ съезда партии, на котором Хрущёв выступил с докладом «О культе личности и его последствиях».
Однако в 1956 году Александр Твардовский публикует «Друга» именно как главу — в первом сборнике «Литературная Москва», который сдан в печать 17 февраля 1956 году. В этой публикации, как заметил Григорий Свирский, «впервые встретилась официально признанная русская поэзия с лагерным потоком».
Трудности, связанные с этим столкновением (не только художественные, но и стоящие за ними мировоззренческие), Твардовский предчувствует в самом начале работы над сюжетом «Друга». В записи от 6 сентября 1955 года суть кризиса он определяет так:
Трудности, связанные с этим столкновением (не только художественные, но и стоящие за ними мировоззренческие), Твардовский предчувствует в самом начале работы над сюжетом «Друга». В записи от 6 сентября 1955 года суть кризиса он определяет так:
“
А тут всё дело в том, что нет у меня той, как до 53 г., безоговорочной веры в наличествующее благоденствие». Кроме того, новую главу трудно согласовать с соседней, в которой «будет некоторая обычность и даже обязательность пафоса»
А тут всё дело в том, что нет у меня той, как до 53 г., безоговорочной веры в наличествующее благоденствие». Кроме того, новую главу трудно согласовать с соседней, в которой «будет некоторая обычность и даже обязательность пафоса»
Он планирует решить эту задачу так:
“
Предвидится некая вставка-отступление «Ничем меня не отучить» (любить родину и т. п.)
Предвидится некая вставка-отступление «Ничем меня не отучить» (любить родину и т. п.)
Но, судя по дневниковым заметкам, поэт понимает, что подобное простое решение малоубедительно, а взятая тема слишком сложна и личностна:
“
Это главное: замок на мысли, «грех» — избавление от необходимости думать, иметь свое человеческое мнение и суждение. Кому-то там видней (больше, чем мне, другу, знающему человека, как самого себя). Отказ себе в каком-либо значении своей принадлежности тому, общему, к чему апеллирую.
Это главное: замок на мысли, «грех» — избавление от необходимости думать, иметь свое человеческое мнение и суждение. Кому-то там видней (больше, чем мне, другу, знающему человека, как самого себя). Отказ себе в каком-либо значении своей принадлежности тому, общему, к чему апеллирую.
Вопрос о личной вине (знал о невиновности репрессированного друга/друзей, но ничего не мог и не смел делать) вошёл в предмет размышлений поэта как вопрос о смысле веры. Записи Твардовского ясно свидетельствуют о том, что «Общее» оказывается сомнительным, небесспорным. Это делает сомнительной и фетишизацию «народного единения», то есть замысел книги. Поэт всё больше чувствует трудность «вытягивания» темы:
“
И может быть, с другого конца нужно зайти. Тема страшная, взявшись, бросить нельзя — всё равно, что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи. Тема многослойная, многорадиусная — туда и сюда кинься — она до всего касается — современности, войны, деревни, прошлого революции и т. д. М.б., опять возникает мысль, что она не решима в лоб, а только может где-то исподволь проходить, но — нет. Во всяком случае, надо попробовать её разрабатывать без «надежд на ближайшее доведение» до дела. А без этого никаких «далей» у меня не может развернуться.
13 сентября 1955
13 сентября 1955
И может быть, с другого конца нужно зайти. Тема страшная, взявшись, бросить нельзя — всё равно, что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи. Тема многослойная, многорадиусная — туда и сюда кинься — она до всего касается — современности, войны, деревни, прошлого революции и т. д. М.б., опять возникает мысль, что она не решима в лоб, а только может где-то исподволь проходить, но — нет. Во всяком случае, надо попробовать её разрабатывать без «надежд на ближайшее доведение» до дела. А без этого никаких «далей» у меня не может развернуться.
13 сентября 1955
13 сентября 1955
Работа над сюжетом о встрече с другом, дав поэту мощный творческий импульс, стала не выходом из кризиса, а вызовом для первоначального замысла поэмы, и не просто потребовала его углубления, но поставила под вопрос саму возможность его реализации. Без 'этого сюжета поэму о народном единении создать невозможно, поскольку это тема вины за соучастие в вычеркивании людей из жизни.
Но тему не только трудно «вытянуть», она взламывает идею поэмы и содержательно и интонационно. Трудно представить, что рождающаяся глава сможет соединиться с уже написанными в единое произведение. И дело не только в том, что новая глава «выбивается» из написанного до этого, дело еще в том, что написанное ранее теперь воспринимается иначе.
О «сталинской» главе Твардовский записывает в апреле 1956 года:
Но тему не только трудно «вытянуть», она взламывает идею поэмы и содержательно и интонационно. Трудно представить, что рождающаяся глава сможет соединиться с уже написанными в единое произведение. И дело не только в том, что новая глава «выбивается» из написанного до этого, дело еще в том, что написанное ранее теперь воспринимается иначе.
О «сталинской» главе Твардовский записывает в апреле 1956 года:
“
Но теперь глава эта вообще выпадает — читал на днях её, — кроме обязательных по традиции слов, строк, оборотов, всё там годится, но всё равно теперь выпадает
Но теперь глава эта вообще выпадает — читал на днях её, — кроме обязательных по традиции слов, строк, оборотов, всё там годится, но всё равно теперь выпадает
Вместе с главой «Друг детства» в поэме появляется другая ведущая тема — тема сомнений, чувства, если не вины, то ответственности за недавнее прошлое страны. Стремление лирического героя быть искренним перед самим собой заявлено с первых строф, а благодаря главе «Друг детства» размышления становятся исповедальными.
Для самого Твардовского тема вины — не новая тема. О «Друге детства» он пишет, что «тема этой главы у меня идет из далекой юности», имея в виду, разумеется, не конкретную встречу с конкретным человеком.
Для самого Твардовского тема вины — не новая тема. О «Друге детства» он пишет, что «тема этой главы у меня идет из далекой юности», имея в виду, разумеется, не конкретную встречу с конкретным человеком.
“
М.б., никогда еще я не был так лицом к лицу с самой личной и неличной темой моего поколения, вопросом совести и смысла жизни
М.б., никогда еще я не был так лицом к лицу с самой личной и неличной темой моего поколения, вопросом совести и смысла жизни
Заметим, что речь о «моём поколении», то есть если и не о вине народа, то о вине личной как вине общей. И это надо как-то соотносить с «народным единением».
Контрапункт книги возникает не в «Друге детства», а в главе «На Ангаре», где встречаются два лейтмотива - народное единение и тема сомнений. На перекрытии Ангары под Иркутском автора впечатляет (а лирического героя поэмы потрясает) не столько демонстрация мощи человека, социализма или техники, сколько социальный смысл события. В дневнике, записывая впечатления от первого дня перекрытия, Александр Твардовский прибегает к фронтовым ассоциациям, но речь совсем не о героизме:
Контрапункт книги возникает не в «Друге детства», а в главе «На Ангаре», где встречаются два лейтмотива - народное единение и тема сомнений. На перекрытии Ангары под Иркутском автора впечатляет (а лирического героя поэмы потрясает) не столько демонстрация мощи человека, социализма или техники, сколько социальный смысл события. В дневнике, записывая впечатления от первого дня перекрытия, Александр Твардовский прибегает к фронтовым ассоциациям, но речь совсем не о героизме:
“
И люди, которых видел, такие славные в своей спокойной и горделивой усталости и как бы неторопливом напряжении. Очень напомнили мне солдат переднего края
8 июля 1956
8 июля 1956
И люди, которых видел, такие славные в своей спокойной и горделивой усталости и как бы неторопливом напряжении. Очень напомнили мне солдат переднего края
8 июля 1956
8 июля 1956
Через полгода он записывает в дневнике образы будущей главы:
“
укрощение бешенства стихии и пафос страды — артельной и воинской
25 февраля 1957
25 февраля 1957
укрощение бешенства стихии и пафос страды — артельной и воинской
25 февраля 1957
25 февраля 1957
Метафора наступления ложится в основу главы «На Ангаре», но перекрытие описывается не как военная операция, а как народный порыв, прочно ассоциирующийся у фронтового поэта с недавней войной. И на этом пике темы народного единения Твардовский обращается к главной лирической линии поэмы, к теме сомнений и вины, не исповедально, но интимно — в обращении к другу, ушедшему из жизни:
Тот час рассветный, небывалый,
Тот праздник подлинный труда
Я не забуду никогда…
Как мне тебя недоставало,
Мой друг, ушедший навсегда!..
Кто так, как ты, еще на свете
До слез порадоваться мог
Речам, глазам и людям этим!
Зачем же голос твой умолк?..
Тот праздник подлинный труда
Я не забуду никогда…
Как мне тебя недоставало,
Мой друг, ушедший навсегда!..
Кто так, как ты, еще на свете
До слез порадоваться мог
Речам, глазам и людям этим!
Зачем же голос твой умолк?..
Речь не о друге детства, которого лирический герой встретил на станции Тайшет, речь об Александре Фадееве, который легко узнается и без упоминания имени. «Праздник подлинный труда», радость людей, вместе совершивших небывалое по масштабу дело, достигает значения национального идеала, прочно связанного у поэта и читателя с народной войной. И то, что национальный идеал жив, служит решающим доводом в мысленном диалоге с другом, выбравшим смерть.
Причины ухода не названы, но, судя по этому доводу, друг ушел в состоянии безверия. Так эпос народного единения ответил на внутренние вопросы лирического героя, на тему сомнений. И если апогей народного единения — национальный идеал, то безверие, разочарование — апогей внутренних сомнений. Две темы встретились в этой главе, создав контрапункт. Итог встречи: внутреннее вопрошание, сомнения приняли статус пусть важной, но исторической частности, а, значит, и встреча с другом на станции Тайшет.
Встреча с национальным идеалом на перекрытии Ангары делает «встречу с другом» фактом истории. Обращение к Фадееву в финале главы звучит как разрешение тех сомнений, в которые автор погружал читателя:
Причины ухода не названы, но, судя по этому доводу, друг ушел в состоянии безверия. Так эпос народного единения ответил на внутренние вопросы лирического героя, на тему сомнений. И если апогей народного единения — национальный идеал, то безверие, разочарование — апогей внутренних сомнений. Две темы встретились в этой главе, создав контрапункт. Итог встречи: внутреннее вопрошание, сомнения приняли статус пусть важной, но исторической частности, а, значит, и встреча с другом на станции Тайшет.
Встреча с национальным идеалом на перекрытии Ангары делает «встречу с другом» фактом истории. Обращение к Фадееву в финале главы звучит как разрешение тех сомнений, в которые автор погружал читателя:
Прости,
Но только памятью печальной
Одной не мог я жить в пути.
Моя заветная дорога,
Хоть и была со мной печаль,
Звала меня иной тревогой
И далью, что сменяет даль.
И память ныне одолённой.
Крутой ангарской быстрины.
Как будто замысел бессонный,
Я увозил на край страны.
Но только памятью печальной
Одной не мог я жить в пути.
Моя заветная дорога,
Хоть и была со мной печаль,
Звала меня иной тревогой
И далью, что сменяет даль.
И память ныне одолённой.
Крутой ангарской быстрины.
Как будто замысел бессонный,
Я увозил на край страны.
В июне 1965 года Твардовский вдруг обратит внимание на «неловкость с образом друга. То это „друг детства“, то Фадеев. Но уж исправлять поздно». Очевидно, имеется в виду та подмена, которая произошла в главе «На Ангаре». Удивительно, что самим автором она была замечена уже с надвременной дистанции: тут не было осознанного приема («неловкость»), и в то же время произошла сущностная замена, позволившая развязать узлы замысла, вывести поэму из кризиса.
Мысленный диалог с Фадеевым, а не с другом детства позволил развернуть тему сомнений как вопрос веры. Причём веры в смыслы революции: в портрете Фадеева отсылка к его «Разгрому». Это придало вопросу масштаб, соотносимый с масштабом «праздника труда». Но всё же это не вопрос ответственности и вины, который задан встречей на станции Тайшет. Чувство вины может поставить вопрос о вере, но укрепление в вере не разрешает вопроса о вине и ответственности за прошлое. Представим себе народный порыв, «праздник подлинный труда», даже поднятый до статуса национального идеала, как довод в диалоге с другом, возвратившимся из лагеря. Трудно представить.
За этой, по выражению поэта, «неловкостью» ключевое противоречие общественной десталинизации. Анализируя перипетии «хрущёвского» десятилетия, Михаил Гефтер видит противоречивость его антисталинизма (назовем это политической десталинизацией) в том, что,
Мысленный диалог с Фадеевым, а не с другом детства позволил развернуть тему сомнений как вопрос веры. Причём веры в смыслы революции: в портрете Фадеева отсылка к его «Разгрому». Это придало вопросу масштаб, соотносимый с масштабом «праздника труда». Но всё же это не вопрос ответственности и вины, который задан встречей на станции Тайшет. Чувство вины может поставить вопрос о вере, но укрепление в вере не разрешает вопроса о вине и ответственности за прошлое. Представим себе народный порыв, «праздник подлинный труда», даже поднятый до статуса национального идеала, как довод в диалоге с другом, возвратившимся из лагеря. Трудно представить.
За этой, по выражению поэта, «неловкостью» ключевое противоречие общественной десталинизации. Анализируя перипетии «хрущёвского» десятилетия, Михаил Гефтер видит противоречивость его антисталинизма (назовем это политической десталинизацией) в том, что,
“
[расшатывая систему] в наиболее незыблемом её пункте, воспрещающем сострадание к человеку", Хрущёв унаследовал и «комплекс могущества с его жесткими правилами, диктующими каждому народу и каждому человеку место и границы дозволенного
[расшатывая систему] в наиболее незыблемом её пункте, воспрещающем сострадание к человеку", Хрущёв унаследовал и «комплекс могущества с его жесткими правилами, диктующими каждому народу и каждому человеку место и границы дозволенного
Чьим именем справедливее назвать ту оконченную, но не завершенную эпоху – именем Никиты Хрущева или именем Александра Твардовского? Именем первого ослушника сталинской системы, не сумевшего совладать со Сталиным в самом себе, или именем человека, которому первый дал возможность превозмочь Сталина в себе: ту возможность, которая родила раскрепощающее Слово – дверь из смерти в жизнь?!
Гефтер М. Я. Из тех и этих лет / Михаил Гефтер – М: Прогресс, 1991. C.
Гефтер М. Я. Из тех и этих лет / Михаил Гефтер – М: Прогресс, 1991. C.
Общественная десталинизация замешана на действии, которое олицетворяет Твардовский — «превозмогании Сталина в себе», но и она несвободна от комплекса могущества, от поэтики «народного единения». Лейдерман и Липовецкий пишут о фетишизации народа и страны. То, что не допускает безверия и разочарования, может быть в равной степени названо историческим оптимизмом и добровольной несвободой от истории. Книга поэм Твардовского обновляет советский идеализм, включая в него тему сомнений, но остаётся в его пределах: национальный идеал в советском изводе позволяет и предписывает с сомнениями справляться.
Анатолий Кузнецов.
Идеалы и повседневность
Идеалы и повседневность
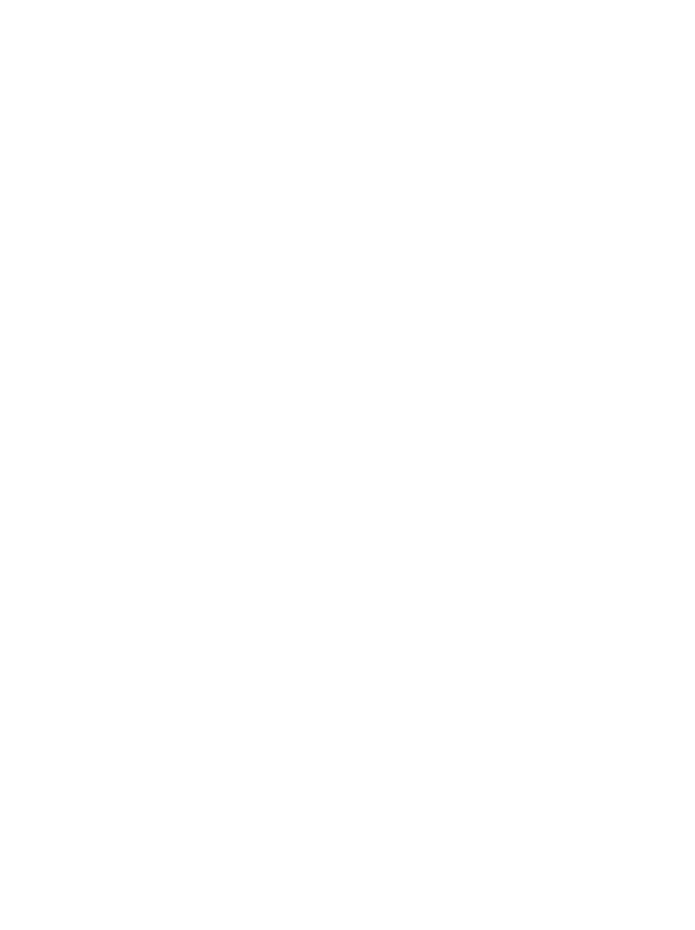
Иные смыслы, чем поэт, фронтовик и общественный деятель Александр Твардовский, ищет юный герой повести Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды». Но тоже находит их на строительстве Иркутской ГЭС. Вчерашний московский школьник Толик так же, как и лирический герой «За далью — даль», отправляется из столицы по Транссибу. Едет он строить Братскую ГЭС, но не из романтических побуждений, а из-за невозможности оставаться в Москве: несчастливая любовь, полная неясность будущего и, в целом, какое-то глубокое недовольство собой, средой и содержанием жизни (если не сказать, его отсутствием).
Путешествие в поезде лишено пафоса не только из-за настроения героя. Попутчики, в отличие от пассажиров-родни Твардовского, в эпическую поэтику никак не впишутся:
Путешествие в поезде лишено пафоса не только из-за настроения героя. Попутчики, в отличие от пассажиров-родни Твардовского, в эпическую поэтику никак не впишутся:
“
Почему они такие, Гришка и Лешка, и откуда они взялись? И кто из них лучше? В книгах, газетах, журналах — я ведь их не встречал. Там они появлялись последний раз в двадцатых годах. А вот они рядом со мной, едят, сопят, ругаются…
Почему они такие, Гришка и Лешка, и откуда они взялись? И кто из них лучше? В книгах, газетах, журналах — я ведь их не встречал. Там они появлялись последний раз в двадцатых годах. А вот они рядом со мной, едят, сопят, ругаются…
Гришка — «кулак и жадюга», Лешка — вор, вышедший из лагеря. Они, как и другие спутники Толика, завербовались на строительство Братской ГЭС. Время проводят не в спорах о «фронте и тыле», как спутники Твардовского, а играю в дурака и рассматривают «похабные» фотографии, купленные в поезде.
Правда, все шесть пассажиров купе в общем вагоне, включая Лешку и Гришку, «очень сдружились», пока ехали по бесконечной стране, и поезд «стал домом родным». В поездных впечатлениях Толика появляется и некая эпическая поэтика — от громадности нетронутой Сибири.
Потом эпическое чувство посетит его в Иркутске, когда любопытство приведет на место строительства ГЭС, а случайный знакомый, бригадир плотников, покажет ему масштабную стройку «изнутри». Так Толик прикоснулся к смыслу преобразований: «Море в центре Сибири, которая воспринималась как каторжная». В состоянии растерянности от масштаба и высоких смыслов герой «как во сне» пишет под диктовку нового знакомого: «Прошу оформить меня…» — и остается на строительстве Иркутской ГЭС. Но в рабочих буднях и в быте ничего эпического нет.
Правда, все шесть пассажиров купе в общем вагоне, включая Лешку и Гришку, «очень сдружились», пока ехали по бесконечной стране, и поезд «стал домом родным». В поездных впечатлениях Толика появляется и некая эпическая поэтика — от громадности нетронутой Сибири.
Потом эпическое чувство посетит его в Иркутске, когда любопытство приведет на место строительства ГЭС, а случайный знакомый, бригадир плотников, покажет ему масштабную стройку «изнутри». Так Толик прикоснулся к смыслу преобразований: «Море в центре Сибири, которая воспринималась как каторжная». В состоянии растерянности от масштаба и высоких смыслов герой «как во сне» пишет под диктовку нового знакомого: «Прошу оформить меня…» — и остается на строительстве Иркутской ГЭС. Но в рабочих буднях и в быте ничего эпического нет.
В повести Кузнецова снижен пафос «великой стройки» — строительство Иркутской ГЭС не повод для воспевания героизма, а место взросления, в том числе и тесного знакомства с «темными сторонами» жизни: нуждой, мошенничеством, унижением людей.
Опубликована в журнале «Юность» в №7 за 1957 год.
Повесть Анатолия Кузнецова — одна из первых публикаций журнала «Юность», делавших ему имя, и может быть отнесена к «новомировской» традиции, если под этой традицией понимать сочетание принципа искренности в литературе, программно заявленного в «Новом мире» в конце 1953 года, с другим безусловным для советского и русского интеллигента принципом — народностью. Следование этим двум принципам определяло императив жизненной правды для автора и читателя («жизненность», «правдивость» — язык той эпохи), народность уже не могла быть декларативной и оставаться эпической.
Елена Зубкова определила «оттепельный» процесс в литературе как проникновение в неё реальности, несовершенных людей и их личной жизни. Здесь важно замечание о «несовершенных людях», то есть были реабилитированы не только репрессированные, была реабилитирована повседневность, обычная человеческая жизнь.
Повседневность становилась не просто темой литературы, но предметом художественного исследования.
Елена Зубкова определила «оттепельный» процесс в литературе как проникновение в неё реальности, несовершенных людей и их личной жизни. Здесь важно замечание о «несовершенных людях», то есть были реабилитированы не только репрессированные, была реабилитирована повседневность, обычная человеческая жизнь.
Повседневность становилась не просто темой литературы, но предметом художественного исследования.
Жизненность — обязательство, которое брала на себя художественная интеллигенция в том новом советском консенсусе власти, интеллигенции и «народа», который складывался в пятидесятых годах.
По повести был поставлен телеспектакль, её инсценировка стала одним из первых спектаклей в репертуаре «Современника», но, видимо, проза, в основе которой внутренняя рефлексия героя, трудно переводилась в драматургические формы. Спектакль упоминается в мемуарах только в связи с актерскими розыгрышами и дебютами, о телеспектакле известно лишь, что он поставлен через несколько месяцев после публикации. Фильм так и не был снят, хотя снимался, либо был заявлен.
Обязательство перед «народом», перед читателем и зрителем, который говорит от имени народа (на обсуждениях произведений, в книгах отзывов на выставках, в письмах в редакции) и перед властью, поскольку она тоже сохраняет обязательство и право вещать от имени народа.
Главной мотивацией поведения героя повести Анатолия Кузнецова, московского юноши Толика, и предметом художественного исследования для автора стало соотнесение идеала с повседневностью. Это не революционный идеал, а, скорее, представление о правильной взрослой жизни — честной, осмысленной и без поблажек. Толик проходит социализацию, то есть входит во взрослую жизнь. Но обычный, а не сверхчеловек, и в обычной (то есть негероической) жизни не есть человек без идеалов. Его волнует, насколько жизнь может быть «настоящей», есть ли в ней «настоящее». Этот критерий — точный признак социального идеализма, того, что человек живет противоречием между должным и сущим (даже если это должное не определено и остается неведомым другим по отношению к обыденному).
Дмитрий Быков, исследуя пятидесятые в книге об Окуджаве, описывает антропологию предшествующей эпохи:
Главной мотивацией поведения героя повести Анатолия Кузнецова, московского юноши Толика, и предметом художественного исследования для автора стало соотнесение идеала с повседневностью. Это не революционный идеал, а, скорее, представление о правильной взрослой жизни — честной, осмысленной и без поблажек. Толик проходит социализацию, то есть входит во взрослую жизнь. Но обычный, а не сверхчеловек, и в обычной (то есть негероической) жизни не есть человек без идеалов. Его волнует, насколько жизнь может быть «настоящей», есть ли в ней «настоящее». Этот критерий — точный признак социального идеализма, того, что человек живет противоречием между должным и сущим (даже если это должное не определено и остается неведомым другим по отношению к обыденному).
Дмитрий Быков, исследуя пятидесятые в книге об Окуджаве, описывает антропологию предшествующей эпохи:
“
Предполагалось разделение на сверх- и недо-. Нельзя было жаловаться на бессилие, предписывалось радоваться испытаниям, запрещалось жалеть слабого, любить близкого, тосковать по родному. Самое естественное оказывалось под наиболее строгим запретом. Жизнь представлялась благодеянием". И определяет смысл оттепели лаконично: «людям разрешили быть людьми.
Предполагалось разделение на сверх- и недо-. Нельзя было жаловаться на бессилие, предписывалось радоваться испытаниям, запрещалось жалеть слабого, любить близкого, тосковать по родному. Самое естественное оказывалось под наиболее строгим запретом. Жизнь представлялась благодеянием". И определяет смысл оттепели лаконично: «людям разрешили быть людьми.
Толик не сверхчеловек, однако от него потребовались усилия, которые можно счесть сверхусилиями для обычного человека — и для того, чтобы справляться с работой, и для того, чтобы не вернуться в Москву. На стройке никакие обязательства его не держат, разве что нежелание выглядеть дезертиром. Он всё-таки из поколения детей войны, в пятидесятые читателю не надо было объяснять, почему молодой человек стыдится подозрений в дезертирстве. Когда Толику совсем невмоготу, он готов всё бросить и уехать. Однажды его удерживает спокойным разговором старший сосед по общежитию (из фронтовиков), в другой раз — нет денег на билет. И главным, что удерживает героя на стройке (а затем влечёт на строительство Братской ГЭС), оказывается всё-таки не чувство стыда.
Инструментом художественного исследования была внутренняя рефлексия московского мальчика в мире сибирской стройки — новом для него и читателя. Герою сложно исследовать себя. В отличие от сверхчеловека с ясными идеалами, пренебрегающего житейскими заботами, у обычного человека преобладают быт и ежедневные трудности, среди которых не до идеалов. Перекрытие Ангары напомнило о значении дела, в котором участвует юноша, опять внесло эпическую интонацию в повествование, то есть в прямую речь Толика.
В больнице (организм всё-таки надорвался — не на работе, то есть не во время трудового подвига, а в выходной день, от накопившейся усталости) он спорит о смысле жизни, о происходящем на стройке и в стране с местным уроженцем Мишкой. Повод для спора (читается чуть ли не между строк) — «свинское отношение» к строителям. Мишка яростно объясняет про исторические обстоятельства, исторические жертвы и высокие цели. Спорить на равных Толик не может: Мишка читал Мора и Кампанеллу, а в больницу попал, получив ножевую рану, когда спасал от насильников незнакомую девушку. Но Толик не ищет высокие исторические смыслы, выбор Сибири для жизненного опыта могут оправдать только повседневная работа, быт, отношения. В них москвич Толик находит нечто «настоящее», что трудно или невозможно найти в Москве.
О взглядах героя на жизнь мы узнаём, прежде всего, из его реакции на письма своего антагониста — Витьки, школьного приятеля, пытающегося объяснить Толику, как надо жить:
Инструментом художественного исследования была внутренняя рефлексия московского мальчика в мире сибирской стройки — новом для него и читателя. Герою сложно исследовать себя. В отличие от сверхчеловека с ясными идеалами, пренебрегающего житейскими заботами, у обычного человека преобладают быт и ежедневные трудности, среди которых не до идеалов. Перекрытие Ангары напомнило о значении дела, в котором участвует юноша, опять внесло эпическую интонацию в повествование, то есть в прямую речь Толика.
В больнице (организм всё-таки надорвался — не на работе, то есть не во время трудового подвига, а в выходной день, от накопившейся усталости) он спорит о смысле жизни, о происходящем на стройке и в стране с местным уроженцем Мишкой. Повод для спора (читается чуть ли не между строк) — «свинское отношение» к строителям. Мишка яростно объясняет про исторические обстоятельства, исторические жертвы и высокие цели. Спорить на равных Толик не может: Мишка читал Мора и Кампанеллу, а в больницу попал, получив ножевую рану, когда спасал от насильников незнакомую девушку. Но Толик не ищет высокие исторические смыслы, выбор Сибири для жизненного опыта могут оправдать только повседневная работа, быт, отношения. В них москвич Толик находит нечто «настоящее», что трудно или невозможно найти в Москве.
О взглядах героя на жизнь мы узнаём, прежде всего, из его реакции на письма своего антагониста — Витьки, школьного приятеля, пытающегося объяснить Толику, как надо жить:
“
Красивые идеи и сияющие вершины, брат, специально изобретены для наивных юношей, а мир движется по иным законам, более простым и конкретным. Конечно, такие дурачки, как ты, ах, как нужны! Давай, давай, строй гидростанции, а тем временем другие построят себе дачи — одну под Москвой, другую в Крыму, еще одну на Рижском взморье.
Красивые идеи и сияющие вершины, брат, специально изобретены для наивных юношей, а мир движется по иным законам, более простым и конкретным. Конечно, такие дурачки, как ты, ах, как нужны! Давай, давай, строй гидростанции, а тем временем другие построят себе дачи — одну под Москвой, другую в Крыму, еще одну на Рижском взморье.
Виктор устраивается в Москве в торговый техникум, благодаря связям отца и взятке. Толик не отвечает на письма бывшего приятеля: видимо, ему трудно формулировать. Взгляды Толи на жизнь заключаются в том, чтобы не быть паразитом. Собственно, весь его идеал (или то, что мы можем сказать о его идеале) — дорога должна быть прямой:
“
Моя тропинка в мир светлых и прямых дорог, где ты?
Моя тропинка в мир светлых и прямых дорог, где ты?
Метафора прямой дороги — еще один точный признак, позволяющий назвать героя идеалистом. Прямая дорога — это образ общего поступательного направленного к цели движения, соотнесение своей жизни и судьбы с историей, обретение в истории смыслов для решения экзистенциальных проблем.
Чуть ли не единственная декларация в повести, подводящая итог работе и жизни героя на иркутской стройке, делается уже от имени поколения и звучит как заявление об исторической миссии:
“
Мы будем уничтожать волков. Всё в мире только начинается! Нам много предстоит в жизни борьбы. Наше поколение только вступает в неё. Мы принимаем эстафету от Захар Захарыча. Слышите вы, строители собственных дач! Слышите, хлюпики, впадающие в панику перед лужами!
Мы будем уничтожать волков. Всё в мире только начинается! Нам много предстоит в жизни борьбы. Наше поколение только вступает в неё. Мы принимаем эстафету от Захар Захарыча. Слышите вы, строители собственных дач! Слышите, хлюпики, впадающие в панику перед лужами!
Стенограмма обсуждения романа Владимира Дудинцева в ЦДЛ 22 октября 1956 г. либо не велась, либо не введена в научный оборот. Здесь цитируется конспект выступления Паустовского, который был сделан в зале и затем распространен. Цитируемый источник – мемориальный сайт писателя.
И, хотя оканчивается декларация обещанием построить удивительную жизнь, весь её пафос направлен против тех, кто думает только о собственном благополучии и считает себя хозяевами жизни: «волков», «клопов», «трусов».
В подзаголовке повести обозначена её форма — «Записки молодого человека». Форма очерчивает линию разлома, возникшего в советском обществе. Константин Паустовский так сказал об этом разломе, выступая в октябре 1956 года на обсуждении романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» в Центральном доме литераторов в Москве: «Дело в том, что в нашей стране безнаказанно существует, даже, в некоторой степени, процветает новая каста обывателей. Это новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашей страной, ни с социализмом».
В том же 1956 году 23 апреля Давид Самойлов пишет в своем дневнике: «Мысль о мещанском характере современной правящей прослойки очень важна. Это подспудная мысль всей нашей мало-мальски честной литературы».
В повести Кузнецова эта мысль не подспудная, а достаточно откровенная. Правда, Витька и его семейство из торгового сословия, но они олицетворяют столичную корыстную жизнь. Это противопоставление столичного мещанства и страны, живущей по другим нормам и законам, достаточно характерно для пятидесятых. Видимо, поэтому киевлянин Кузнецов, передавая герою часть своей биографии, делает его москвичом.
Толик не только с «паразитом» Витькой ведет свой внутренний спор, он также размышляет о разнице между своим миром и тем миром, в котором живет Юна, дочь начальника крупного завода, неразделённая любовь к которой — одна из причин бегства юноши из Москвы, и понимает, что пути у них с девушкой разные именно потому, что принадлежат они к разным мирам. Мир безыдейный, но с доступными благами, воспитывающий мещанина и эгоиста, и мир самостоятельного выбора и поступков, ведущих к «настоящему».
Негероический и не слишком красноречивый юноша предстает носителем социальных идеалов, главной, если не единственной альтернативой лишенному высоких смыслов миру хозяев положения.
В подзаголовке повести обозначена её форма — «Записки молодого человека». Форма очерчивает линию разлома, возникшего в советском обществе. Константин Паустовский так сказал об этом разломе, выступая в октябре 1956 года на обсуждении романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» в Центральном доме литераторов в Москве: «Дело в том, что в нашей стране безнаказанно существует, даже, в некоторой степени, процветает новая каста обывателей. Это новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашей страной, ни с социализмом».
В том же 1956 году 23 апреля Давид Самойлов пишет в своем дневнике: «Мысль о мещанском характере современной правящей прослойки очень важна. Это подспудная мысль всей нашей мало-мальски честной литературы».
В повести Кузнецова эта мысль не подспудная, а достаточно откровенная. Правда, Витька и его семейство из торгового сословия, но они олицетворяют столичную корыстную жизнь. Это противопоставление столичного мещанства и страны, живущей по другим нормам и законам, достаточно характерно для пятидесятых. Видимо, поэтому киевлянин Кузнецов, передавая герою часть своей биографии, делает его москвичом.
Толик не только с «паразитом» Витькой ведет свой внутренний спор, он также размышляет о разнице между своим миром и тем миром, в котором живет Юна, дочь начальника крупного завода, неразделённая любовь к которой — одна из причин бегства юноши из Москвы, и понимает, что пути у них с девушкой разные именно потому, что принадлежат они к разным мирам. Мир безыдейный, но с доступными благами, воспитывающий мещанина и эгоиста, и мир самостоятельного выбора и поступков, ведущих к «настоящему».
Негероический и не слишком красноречивый юноша предстает носителем социальных идеалов, главной, если не единственной альтернативой лишенному высоких смыслов миру хозяев положения.
Остранение идеала.
Алексей Арбузов
Алексей Арбузов
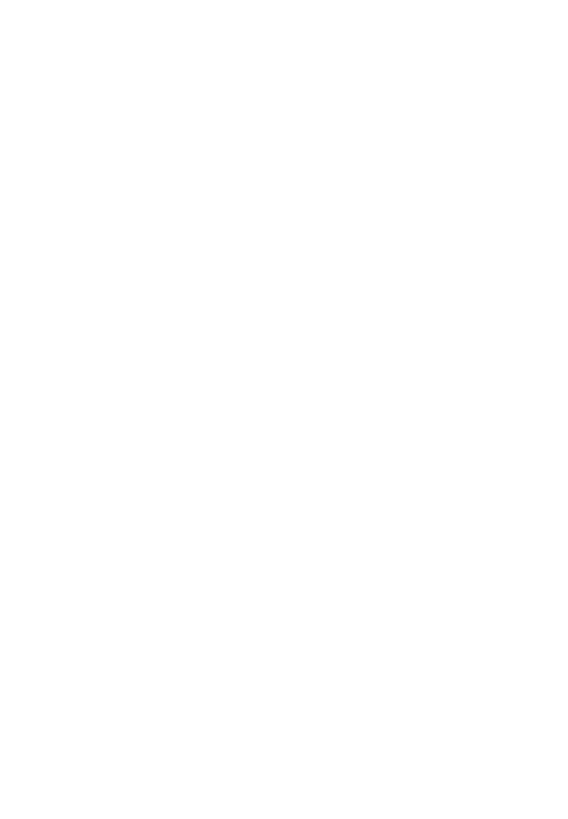
Пьесу Арбузова «Иркутская история» оценили как событие сразу. Зрители писали о жизненной правде и достойных любви героях, рецензенты отмечали как современность содержания, так и театральное новаторство. Действие разворачивается на строительстве ГЭС, герои — экипаж шагающего экскаватора, но пьесу невозможно назвать производственной. Даже об этапе строительства можно только догадаться по косвенным признакам. Завязка — любовный треугольник. Сюжет — судьбы и развитие характеров трёх главных героев. При этом большая стройка не фон для любовной истории, а история индивидуальностей и человеческих отношений.
Один из героев — Сергей — персонифицированное стремление к настоящему, воплощённая правильность и порядок:
Один из героев — Сергей — персонифицированное стремление к настоящему, воплощённая правильность и порядок:
“
Я — комсорг, и всё такое. И ещё над собой работать надо
Я — комсорг, и всё такое. И ещё над собой работать надо
Но он не готовит себя к беззаветному служению, а просто стремится жить по-человечески, уверенный, что идеалы могут быть прочной основой для счастливой жизни. И гибнет Сергей, поступив по-человечески в обыденной ситуации, а не совершая подвиг во имя судьбы стройки: спасает заигравшихся в реке детей. В пьесе образ настоящего человека переведен из сферы сверхусилий (для сравнения — Мересьев — герой «Повести о настоящем человеке», Губанов — герой фильма «Коммунист») в регистр психологической драмы.
Фабула пьесы — история, случившаяся благодаря стремлению Сергея к настоящей любви. Он приехал на стройку после развода, а развелся из-за того, что любовь не была настоящей. Сергей признаётся в этом Вале, любовнице его друга, к которой неравнодушен, и на её вопрос: «Думаете, она есть — настоящая любовь?» коротко отвечает: «Должна быть».
Переживая любовь к Валентине, к которой на стройке приклеилось «Валька-дешёвка», Сергей творит эту любовь как настоящую, то есть такую, которая должна сделать настоящим человеком и его самог, и его избранницу. Побуждая Валентину изменить образ жизни, работу, представление о людях, он делает ей предложение и создает семью, а после рождения близнецов, разговаривает с Валей о том, что ей надо заняться «настоящим делом» — не возвращаться на работу кассиром в лавке, а идти на строительство:
Фабула пьесы — история, случившаяся благодаря стремлению Сергея к настоящей любви. Он приехал на стройку после развода, а развелся из-за того, что любовь не была настоящей. Сергей признаётся в этом Вале, любовнице его друга, к которой неравнодушен, и на её вопрос: «Думаете, она есть — настоящая любовь?» коротко отвечает: «Должна быть».
Переживая любовь к Валентине, к которой на стройке приклеилось «Валька-дешёвка», Сергей творит эту любовь как настоящую, то есть такую, которая должна сделать настоящим человеком и его самог, и его избранницу. Побуждая Валентину изменить образ жизни, работу, представление о людях, он делает ей предложение и создает семью, а после рождения близнецов, разговаривает с Валей о том, что ей надо заняться «настоящим делом» — не возвращаться на работу кассиром в лавке, а идти на строительство:
“
Что человеку для счастья нужно? Чтобы дело его было хоть чуточку лучше, чем он сам
Что человеку для счастья нужно? Чтобы дело его было хоть чуточку лучше, чем он сам
Гибель Сергея разрушает налаженное счастье, но это лишь финал первого действия: иркутская история не только о его героической судьбе, она развивается благодаря тому, что происходит с Виктором, другом Сергея и бывшим любовником Вали.
Виктор, как и Валя, еще дальше от плакатных героев, чем Сергей, их не отнесешь к «социальным героям». Преодолевая себя, Виктор остается на стройке. Он воплощает свою любовь не в ухаживаниях за Валентиной и даже не в помощи ей, оставшейся с двумя детьми на руках (помогает весь экипаж, выплачивая вдове зарплату за погибшего мужа), а в том, чтобы побудить её продолжить путь к «настоящему делу» (и, значит, к настоящей жизни), на который её выводил Сергей:
Виктор, как и Валя, еще дальше от плакатных героев, чем Сергей, их не отнесешь к «социальным героям». Преодолевая себя, Виктор остается на стройке. Он воплощает свою любовь не в ухаживаниях за Валентиной и даже не в помощи ей, оставшейся с двумя детьми на руках (помогает весь экипаж, выплачивая вдове зарплату за погибшего мужа), а в том, чтобы побудить её продолжить путь к «настоящему делу» (и, значит, к настоящей жизни), на который её выводил Сергей:
“
Благодеяния противны. Сейчас, на себя оглянись — иждивенкой сделалась
Благодеяния противны. Сейчас, на себя оглянись — иждивенкой сделалась
В биографических интервью те, кто когда-то приехал на сибирские стройки, очень редко рассказывают о семейных драмах, от которых уехали, гораздо чаще - о недовольстве прежней работой. Но в большинстве интервью прочитывается, что за умолчанием – драма. Один из моих респондентов, выросший в Усть-Илимске, сказал: «здесь у каждого своя какая-то история». Арбузов, работая над пьесой и выезжая на «натуру», видимо, столкнулся с этим: предыстории всех трёх главных героев – в семейных драмах
Сам Виктор стал другим, и это тоже «иркутская история». В первом действии он в маске ветреного балагура и всеобщего любимца, боится серьезных чувств и не верит женщинам, но из его разговора с другом мы узнаём, что за приездом этого ленинградского парня на стройку и за маской стоит семейная драма: потеря матери, трудные отношения с мачехой и с отцом*.
После того, как Валя предпочла другого, чувства Виктора к ней даже для него самого обнаруживаются как сильные, то есть «настоящие». И даже ревность «здесь — чуть ли не впервые в истории драмы — потенциал возмужания». Виктор убеждает товарищей и в своих чувствах, и самостоятельности Валентины, которую правильнее будет взять на реальную работу (близнецам уже исполнился год), чтобы постепенно овладела специальностью.
Зарплата за мужа — «интеллигентская выдумка», которая, по мнению Виктора, унижает женщину. Слово «интеллигенция», брошенное Виктором в сердцах товарищу по экипажу, юному москвичу Родьке, начальник (Батя) оценивает как обидное. Контекст позволяет видеть в формуле «интеллигентская выдумка» противопоставление прямоте и искренности отношений.
После того, как Валя предпочла другого, чувства Виктора к ней даже для него самого обнаруживаются как сильные, то есть «настоящие». И даже ревность «здесь — чуть ли не впервые в истории драмы — потенциал возмужания». Виктор убеждает товарищей и в своих чувствах, и самостоятельности Валентины, которую правильнее будет взять на реальную работу (близнецам уже исполнился год), чтобы постепенно овладела специальностью.
Зарплата за мужа — «интеллигентская выдумка», которая, по мнению Виктора, унижает женщину. Слово «интеллигенция», брошенное Виктором в сердцах товарищу по экипажу, юному москвичу Родьке, начальник (Батя) оценивает как обидное. Контекст позволяет видеть в формуле «интеллигентская выдумка» противопоставление прямоте и искренности отношений.
Книжным идеалам противопоставлен идеал осуществляемый и осуществленный.
Знаки отсылают к первому году строительства Комсомольска-на-Амуре
Пьеса стала событием в театральном мире — достаточно посмотреть подшивки «Театра» и «Театральной жизни» за 1960−1961 годы, чтобы это бросилось в глаза. Новизну содержания подчеркивало неизбежное сравнение постановки в театре Вахтангова (для него была написана пьеса) со спектаклем по пьесе Арбузова «Город на заре», который был в репертуаре театра с 1957 года (в 1959 году перенесен на кинопленку как фильм-спектакль).
Мир «Города на заре», сочиненного в тридцатые годы, — напряженная борьба за осуществление утопии в тайге. Энтузиазм и идеализм противостоят аномии и неверию, надежность и коллективизм — вражде и подлости, мечтатели — демагогам, труженики — классовым врагам. В пьесе есть драки, и бунт, и дезертирство, и вредительство. Один из героев, утопист и мечтатель Зяблик (то ли смешная фамилия, то ли ласковое прозвище), гибнет в схватке с вредителями, спасая город. Каждый из героев так или иначе совершает выбор между долгом и дезертирством перед угрозой гибели или непереносимых трудностей.
Коллективизм в этом мире почти принудителен, но никто из положительных персонажей не сомневается в правах коллектива на принуждение отдельного человека и в безусловном приоритете интересов коллектива. И ближе к финалу появляется полпред исторического оптимизма и наведения порядка, достойного задач стройки — большевик, носитель ленинских идеалов (он был в ссылке с Лениным, а затем с Кировым — спектакль поставлен после ХХ съезда, к юбилею революции), персонифицирующий мудрость партии, её человечность и родительскую требовательность (он же — отец одной из героинь).
В «Иркутской истории» нет утопических мечтаний, борьбы хаоса и порядка, возможный отъезд Виктора со стройки не дезертирство с трудового фронта, а жертва ради неразделённой любви. В некоторых рецензиях не без снисходительности пьесу трактовали как мелодраму, но это психологическая драма. Константин Рудницкий так объяснил, почему пьеса — событие в истории советского театра:
Мир «Города на заре», сочиненного в тридцатые годы, — напряженная борьба за осуществление утопии в тайге. Энтузиазм и идеализм противостоят аномии и неверию, надежность и коллективизм — вражде и подлости, мечтатели — демагогам, труженики — классовым врагам. В пьесе есть драки, и бунт, и дезертирство, и вредительство. Один из героев, утопист и мечтатель Зяблик (то ли смешная фамилия, то ли ласковое прозвище), гибнет в схватке с вредителями, спасая город. Каждый из героев так или иначе совершает выбор между долгом и дезертирством перед угрозой гибели или непереносимых трудностей.
Коллективизм в этом мире почти принудителен, но никто из положительных персонажей не сомневается в правах коллектива на принуждение отдельного человека и в безусловном приоритете интересов коллектива. И ближе к финалу появляется полпред исторического оптимизма и наведения порядка, достойного задач стройки — большевик, носитель ленинских идеалов (он был в ссылке с Лениным, а затем с Кировым — спектакль поставлен после ХХ съезда, к юбилею революции), персонифицирующий мудрость партии, её человечность и родительскую требовательность (он же — отец одной из героинь).
В «Иркутской истории» нет утопических мечтаний, борьбы хаоса и порядка, возможный отъезд Виктора со стройки не дезертирство с трудового фронта, а жертва ради неразделённой любви. В некоторых рецензиях не без снисходительности пьесу трактовали как мелодраму, но это психологическая драма. Константин Рудницкий так объяснил, почему пьеса — событие в истории советского театра:
“
людские взаимоотношения не плывут сами собой, они могут сознательно твориться, созидаться людьми, верными высоким и свободным критериям коммунистической нравственности, без которых строителям коммунизма не обойтись
людские взаимоотношения не плывут сами собой, они могут сознательно твориться, созидаться людьми, верными высоким и свободным критериям коммунистической нравственности, без которых строителям коммунизма не обойтись
Начальник экипажа (Батя), предлагая помянуть Сергея, говорит: «Что остается после смерти рабочего человека? Дела. Память о них остается навсегда. При коммунизме вообще смерти не будет, потому что дела будут во сто раз лучше наших. И вот Сергей ближе всех к этому времени стоял. Жил как человек, работал как коммунист и умер как герой».
Коммунистическая риторика была в информации ТАСС о премьере спектакля: «Это история о людях, меняющих лицо советской земли, заставляющих отступать тайгу, обуздывающих могучие сибирские реки, о людях, для которых коммунизм — дело вей их жизни, близкое, сегодняшнее, зримое.
В «Иркутской истории» о коммунизме и коммунисте говорится только один раз и предельно лаконично. Пафос в пьесе обходится без коммунистической риторики — «высокие и свободные» критерии естественным образом присутствуют в диалогах и поступках****. Они выражены прилагательным «настоящее». Разыгрывается драма людей, которые стремятся поступать правильно и жить по-настоящему. И есть гарант высоких критериев — коллектив, в котором создается новый мир, иной, нежели обыденный мир вне этой сибирской стройки.
В отличие от «Города на заре», коллектив — не навязанный передовой воспитатель, а семья (как и говорит в минуту трудного решения Виктор, у которого нет другой семьи), alter-ego каждого члена экипажа. Семья вполне патерналистская: есть старшие и младшие, для начальника экскаватора привычно амплуа отца-командира (единственный воевавший, остальные — из детей и подростков войны), но всё же это семья равных и разных. Экипаж может выступить и в роли воспитателя по отношению к тому, чье стремление «расти над собой» неочевидно, или по отношению к самому младшему, вчерашнему школьнику. Но воспитывающие реплики произносятся не от имени коллектива, а от собственного имени. Морализация без резонёрства, облеченное в форму товарищеской дидактики, интонационно отвечающую атмосфере «оттепели» и так хорошо знакомую молодёжи того времени по радиопередачам, «Комсомольской правде», журналу «Юность», советским кинофильмам.
Роль коллектива в том, что им дорожат, и прежде всего — атмосферой искренности и равенства. Идеал осуществлен в этом, именно такая атмосфера отличает место жизни участников драмы от тех мест, которые они оставили. Драма напряжённая, но оптимистическая, есть оптимизм истории, и мы знаем, что будущее будет светлым, поэтому и гибель героя не напоминание о готовности и необходимости жертвовать собой, а подтверждение критериев, испытание на прочность идеалов для оставшихся жить.
В отличие от «Города на заре», коллектив — не навязанный передовой воспитатель, а семья (как и говорит в минуту трудного решения Виктор, у которого нет другой семьи), alter-ego каждого члена экипажа. Семья вполне патерналистская: есть старшие и младшие, для начальника экскаватора привычно амплуа отца-командира (единственный воевавший, остальные — из детей и подростков войны), но всё же это семья равных и разных. Экипаж может выступить и в роли воспитателя по отношению к тому, чье стремление «расти над собой» неочевидно, или по отношению к самому младшему, вчерашнему школьнику. Но воспитывающие реплики произносятся не от имени коллектива, а от собственного имени. Морализация без резонёрства, облеченное в форму товарищеской дидактики, интонационно отвечающую атмосфере «оттепели» и так хорошо знакомую молодёжи того времени по радиопередачам, «Комсомольской правде», журналу «Юность», советским кинофильмам.
Роль коллектива в том, что им дорожат, и прежде всего — атмосферой искренности и равенства. Идеал осуществлен в этом, именно такая атмосфера отличает место жизни участников драмы от тех мест, которые они оставили. Драма напряжённая, но оптимистическая, есть оптимизм истории, и мы знаем, что будущее будет светлым, поэтому и гибель героя не напоминание о готовности и необходимости жертвовать собой, а подтверждение критериев, испытание на прочность идеалов для оставшихся жить.
Кадры из телеверсии спектакля театра имени Евгения Вахтангова «Иркутская история» (1973), реж. Е. Симонов, оператор Г. Рерберг
Во втором квартале 1960 года (апрель-июнь) пьеса шла уже в 79 театрах.
Премьера пьесы «Иркутская история» состоялась в театре Вахтангова в конце 1959 года, в это время пьеса репетировалась ещё в ряде театров, а к концу сезона она вышла уже на лидирующие позиции по числу постановок. К первому полугодию 1962 года количество спектаклей естественным образом сокращается, но по количеству театров, в репертуаре которых она сохраняется, «Иркутская история» по-прежнему безусловный лидер. Всего, суммируя статистику, публиковавшуюся в журнале «Театр», мы получаем за два с половиной театральных сезона — с января 1960 по июнь 1962 года более восьми с половиной тысяч спектаклей.
На этом популярность пьесы не кончается: пик её упоминаний, согласно поиску в корпусе русского языка, приходится на 1966 — 1973 годы. В 1973 году выходит фильм-спектакль на основе вахтанговского. Очевидно, что такую востребованность нельзя объяснить исключительно репертуарной политикой, есть явный запрос публики.
Зрительский интерес к «Иркутской истории» вынуждены были объяснять даже авторы редких ироничных разборов, объясняли «жизненностью» пьесы и узнаваемостью героев. Для нашей темы существенно, что узнаваемые и принятые публикой конца пятидесятых герои — идеалисты. «Иркутская история» проявила потенциал темы настоящего человека и настоящих отношений — не в экстремальной ситуации подвига, а в повседневной и узнаваемой.
Противоречие между идеализмом и жизненностью — из разряда тех, на основе которых возникают динамичные и до поры устойчивые конструкции, именно благодаря противоречивости и сохранению надежды на соотнесение одного с другим. И в «Иркутской истории» надежда сохранялась не благодаря «возвышающему обману» театра, а тому, что встреча идеалов и повседневности происходила на точно найденной дистанции от зрителя.
На этом популярность пьесы не кончается: пик её упоминаний, согласно поиску в корпусе русского языка, приходится на 1966 — 1973 годы. В 1973 году выходит фильм-спектакль на основе вахтанговского. Очевидно, что такую востребованность нельзя объяснить исключительно репертуарной политикой, есть явный запрос публики.
Зрительский интерес к «Иркутской истории» вынуждены были объяснять даже авторы редких ироничных разборов, объясняли «жизненностью» пьесы и узнаваемостью героев. Для нашей темы существенно, что узнаваемые и принятые публикой конца пятидесятых герои — идеалисты. «Иркутская история» проявила потенциал темы настоящего человека и настоящих отношений — не в экстремальной ситуации подвига, а в повседневной и узнаваемой.
Противоречие между идеализмом и жизненностью — из разряда тех, на основе которых возникают динамичные и до поры устойчивые конструкции, именно благодаря противоречивости и сохранению надежды на соотнесение одного с другим. И в «Иркутской истории» надежда сохранялась не благодаря «возвышающему обману» театра, а тому, что встреча идеалов и повседневности происходила на точно найденной дистанции от зрителя.
Требованию жизненной правды отвечало то, что желанная встреча происходила не в городе или на селе, а в мире, который строится.
Драматургически дистанцию создавал коллективный персонаж Хор. Хор комментировал действия героев, озвучивал их внутренние вопросы и сомнения. Практически в каждой рецензии задавался вопрос, а какую роль Хор исполняет в пьесе и постановке, и нужен ли он в структуре пьесы. В ироничной критике Хор становился объектом сарказма, но даже при активном принятии спектакля высказывалось недоумение. Искушенный театровед Юрий Зубков риторически спрашивал, зачем «некое инородное тело»: четыре элегантных молодых человека, не похожих на строителей. Он увидел в этом недоверие зрителю, «проигрыш в глубине, целостности, силе драматизма». Некоторые режиссёры отказывались в своих постановках от этого коллективного персонажа.
Драматург Виктор Розов тоже сетовал на инородность Хора, но не в пьесе, а в спектакле, поставленном Рубеном Симоновым. Характеру самой пьесы Хор, на взгляд Виктора Розова, как раз соответствовал и именно такой характер — публицистический и демократический — был обнажён («накал страстей», «пафос идей») в постановке Николая Охлопкова (театр им. Маяковского). А в постановке вахтанговцев «драма разворачивается внутри героев», и хор «является помехой».
За несколько месяцев до статьи Розова и тоже в «Театре» Константин Рудницкий, напротив, писал об «Иркутской истории», что «вся суть — в раздумчивой, лирической интонации, с которой ведётся разговор со зрителем». За принципиальным расхождением мнений двух авторитетов — популярного драматурга и видного театроведа — прочитывается проблема драматургии отношений между идеализмом героев и «жизненной правдой», то есть принятием их решений и поступков как искренних и правдоподобных.
Драматург Виктор Розов тоже сетовал на инородность Хора, но не в пьесе, а в спектакле, поставленном Рубеном Симоновым. Характеру самой пьесы Хор, на взгляд Виктора Розова, как раз соответствовал и именно такой характер — публицистический и демократический — был обнажён («накал страстей», «пафос идей») в постановке Николая Охлопкова (театр им. Маяковского). А в постановке вахтанговцев «драма разворачивается внутри героев», и хор «является помехой».
За несколько месяцев до статьи Розова и тоже в «Театре» Константин Рудницкий, напротив, писал об «Иркутской истории», что «вся суть — в раздумчивой, лирической интонации, с которой ведётся разговор со зрителем». За принципиальным расхождением мнений двух авторитетов — популярного драматурга и видного театроведа — прочитывается проблема драматургии отношений между идеализмом героев и «жизненной правдой», то есть принятием их решений и поступков как искренних и правдоподобных.
«Жизненная правда» предполагает именно лирическую интонацию и узнаваемость героев, с которыми зритель сопоставляет себя, а тема идеалов и следования идеалам предполагает если не пафос, то, неизбежно, публицистику.
В «Иркутской истории» публицистический стиль возникает, но почти всё время остраняется. Какие бы мотивы и замыслы автора не лежали в основе появления в структуре пьесы коллективного рефлексирующего персонажа, одна функция Хора очевидна: он напоминает о дистанции между зрителями и героями и, прежде всего, с внутренней жизнью героев. Персонажи пьесы принимают решения и сами поясняют их, но переживание за то, получится ли у героев найти правильный путь, правильные слова, возложено на некую внешнюю инстанцию. Зазор между идеализмом и жизненностью не так заметен, если воспринимается на дистанции.
В первой же рецензии на первый спектакль (в целом, восторженной) Юрий Зубов вступился за «образный строй театра», увидев, что пьеса покушается на театральную условность в пользу условности другого рода, и упрекнул Арбузова и Симонова, что спектакль построен «по принципу кинокартины». Хор, который, напомним, предстал для Юрия Зубова «инородным телом», вряд ли можно признать кинематографическим приемом, но он участвовал в том, что сцена превращалась для зрителя в экран, на котором герои осуществляли своё стремление к настоящей жизни. Коллективный резонёр создавал дистанцию, остраняя происходящее, свидетельствуя о нём из внелокальной истории, давая взгляд некоего коллективного «мы».
В режиссерском решении Георгия Товстоногова, по его словам, Хор — это взгляд героев пьесы из будущего на свое настоящее:
В первой же рецензии на первый спектакль (в целом, восторженной) Юрий Зубов вступился за «образный строй театра», увидев, что пьеса покушается на театральную условность в пользу условности другого рода, и упрекнул Арбузова и Симонова, что спектакль построен «по принципу кинокартины». Хор, который, напомним, предстал для Юрия Зубова «инородным телом», вряд ли можно признать кинематографическим приемом, но он участвовал в том, что сцена превращалась для зрителя в экран, на котором герои осуществляли своё стремление к настоящей жизни. Коллективный резонёр создавал дистанцию, остраняя происходящее, свидетельствуя о нём из внелокальной истории, давая взгляд некоего коллективного «мы».
В режиссерском решении Георгия Товстоногова, по его словам, Хор — это взгляд героев пьесы из будущего на свое настоящее:
Вся пьеса — это история их борьбы за себя, за свою чистоту, за очищение от скверны пережитков. И когда они размышляют — они существуют, например, в двухтысячном году, они люди коммунизма; когда же они действуют в предлагаемых обстоятельствах — они люди со свойственными всем нам противоречиями и сложностями.
“
Вся пьеса — это история их борьбы за себя, за свою чистоту, за очищение от скверны пережитков. И когда они размышляют — они существуют, например, в двухтысячном году, они люди коммунизма; когда же они действуют в предлагаемых обстоятельствах — они люди со свойственными всем нам противоречиями и сложностями.
Но дистанцию создавали не только режиссёрские решения, но и место действия. История была иркутской. Герои — вполне узнаваемые люди, но живут иначе. У них есть возможность жить иначе — они в мире, который для зрителя в зале новый, но он существует. И мы за ним можем наблюдать. Дистанция смягчала противоречие между «настоящим» и реальностью, помогала чувствовать его разрешимость.
Репертуарному успеху пьесы «Иркутская история» предшествовал всплеск интереса к Сибири в советском кинематографе, который можно назвать феноменом 1959 года. Действие более десятка игровых фильмов, вышедших на экраны или находившихся в производстве в 1959 году, происходило в Сибири. Это больше, чем за всю предшествующую историю отечественного кино. Причём только в одном фильме («Люди на мосту») сюжет разворачивается на большой стройке, и ещё в одном («Русский сувенир») в панораму современной Сибири включены кадры строительства ГЭС.
Индустриализация Сибири привлекла внимание к ней как к «краю будущего», но большой сибирский миф о Сибири как пространстве настоящей жизни существовал до великих строек. В пятидесятые годы как пространство «настоящего» Сибирь стала инструментом испытания и реанимации советского идеала. Во всяком случае, для авторов произведений, отправившихся на сибирские стройки за сюжетами и героями.
Репертуарному успеху пьесы «Иркутская история» предшествовал всплеск интереса к Сибири в советском кинематографе, который можно назвать феноменом 1959 года. Действие более десятка игровых фильмов, вышедших на экраны или находившихся в производстве в 1959 году, происходило в Сибири. Это больше, чем за всю предшествующую историю отечественного кино. Причём только в одном фильме («Люди на мосту») сюжет разворачивается на большой стройке, и ещё в одном («Русский сувенир») в панораму современной Сибири включены кадры строительства ГЭС.
Индустриализация Сибири привлекла внимание к ней как к «краю будущего», но большой сибирский миф о Сибири как пространстве настоящей жизни существовал до великих строек. В пятидесятые годы как пространство «настоящего» Сибирь стала инструментом испытания и реанимации советского идеала. Во всяком случае, для авторов произведений, отправившихся на сибирские стройки за сюжетами и героями.
Сибирский миф в его советском изводе стал поприщем журналистского дебюта Александра Вампилова и Валентина Распутина, но не имел продолжения в их литературном творчестве. Разве что для писателя Валентина Распутина молодые города (и гидростроительство) становятся чем-то искусственным, чуждым человеку и враждебным нравственным основаниям мира. Как публицист Валентин Распутин вносит свой вклад в романтизацию Сибири (начиная с очерка «Сибирь без романтики»), но идеал обнаруживается в «настоящей» Сибири, которая в прошлом, и это прошлое — альтернатива советской модернизации.
В пьесах Александра Вампилова отзвук «настоящей» Сибири можно расслышать в интонациях Валентины («Прошлым летом в Чулимске») и, может быть, в легенде о купце Черных в той же пьесе. Вопрос о том, жив ли идеал, для вампиловской драматургии не менее значим, чем для авторов рассмотренных выше «иркутских историй». Его герои испытывают идеалы на жизненность в современной драматургу и зрителям жизни реальности, но «советские» только обстоятельства жизни, идеалы не нуждаются в этом эпитете. Вампилов счастливо (для своего творчества) удержал или воспитал в себе «провинциальность» и по отношению к советскому репертуару, и по отношению к творчеству литературного поколения шестидесятников.
В пьесах Александра Вампилова отзвук «настоящей» Сибири можно расслышать в интонациях Валентины («Прошлым летом в Чулимске») и, может быть, в легенде о купце Черных в той же пьесе. Вопрос о том, жив ли идеал, для вампиловской драматургии не менее значим, чем для авторов рассмотренных выше «иркутских историй». Его герои испытывают идеалы на жизненность в современной драматургу и зрителям жизни реальности, но «советские» только обстоятельства жизни, идеалы не нуждаются в этом эпитете. Вампилов счастливо (для своего творчества) удержал или воспитал в себе «провинциальность» и по отношению к советскому репертуару, и по отношению к творчеству литературного поколения шестидесятников.
Список литературы
1. Гефтер М. Я. Из тех и этих лет / Михаил Гефтер – М: Прогресс, 1991.
2. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Русская литература XX века (1950-1990-е годы) / Н.Лейдерман, М. Липовецкий – М.: Академия, 2010. – Т. 1.
3. Свирский Г. На лобном месте: литература нравственного сопротивления 1946-86 г. – Лондон: «OVERSEAS», 1979; Москва, «КРУК», 1998.
4. Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. полит. науки; Ред. кол.: гл. ред. О. Ю. Малинова и др. – М., 2016. Вып. 4: Социальное конструирование пространства.
5. Твардовский А. Т. Дневник: 1950-1959 / Александр Твардовский; [подготовка текста, предисловие, коммент., указ. имен В. А. и О. А. Твардовских]. – М.: ПРОЗАиК, 2013.
6. Твардовский А. Т. За далью – далью. Поэма, стихи о Сибири / Александр Твардовский – Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1977.
7. Твардовский А. Т., Гефтер М. Я. ХХ век. Голограммы поэта и историка. Составитель Е. И. Высочина / Александр Твардовский, Михаил Гефтер – М.: Новый хронограф, 2005.
8. Чупринин С. Хроника важнейших событий 1953-1956 гг. // Оттепель 1953-1956 : Страницы русской советской литературы / Сост. С. И. Чупринин. – М., Моск. рабочий, 1989
2. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Русская литература XX века (1950-1990-е годы) / Н.Лейдерман, М. Липовецкий – М.: Академия, 2010. – Т. 1.
3. Свирский Г. На лобном месте: литература нравственного сопротивления 1946-86 г. – Лондон: «OVERSEAS», 1979; Москва, «КРУК», 1998.
4. Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. полит. науки; Ред. кол.: гл. ред. О. Ю. Малинова и др. – М., 2016. Вып. 4: Социальное конструирование пространства.
5. Твардовский А. Т. Дневник: 1950-1959 / Александр Твардовский; [подготовка текста, предисловие, коммент., указ. имен В. А. и О. А. Твардовских]. – М.: ПРОЗАиК, 2013.
6. Твардовский А. Т. За далью – далью. Поэма, стихи о Сибири / Александр Твардовский – Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1977.
7. Твардовский А. Т., Гефтер М. Я. ХХ век. Голограммы поэта и историка. Составитель Е. И. Высочина / Александр Твардовский, Михаил Гефтер – М.: Новый хронограф, 2005.
8. Чупринин С. Хроника важнейших событий 1953-1956 гг. // Оттепель 1953-1956 : Страницы русской советской литературы / Сост. С. И. Чупринин. – М., Моск. рабочий, 1989
9. Быков Д. Булат Окуджава / Дмитрий Быков – М.: «Молодая гвардия», 2009
10. Зубкова Е. «Общество и реформы. 1945-1964 / Елена Зубкова – М: «Россия молодая», 1993
11. Пахомов В. Актер приходит к вам в дом / В.Пахомов // Театральная жизнь. – 1960. – №18. – С. 22-23
12. Самойлов Д. С. Поденные записи: в 2 т. / Давид Самойлов – М.: Время, 2002. – Т.1
10. Зубкова Е. «Общество и реформы. 1945-1964 / Елена Зубкова – М: «Россия молодая», 1993
11. Пахомов В. Актер приходит к вам в дом / В.Пахомов // Театральная жизнь. – 1960. – №18. – С. 22-23
12. Самойлов Д. С. Поденные записи: в 2 т. / Давид Самойлов – М.: Время, 2002. – Т.1
13. Дубнова Е. Новое и модное в драме/Е.Дубнова // Театр – 1961 – №12 – С.48-55.
14. Зубков Ю. Встретились три человека… / Юрий Зубков // Советская культура. – 5 января 1960 г. (№2)
15. Пыжова О. Иркутская история/ О. Пыжова // Театр. – 1961. – №4. – С. 124-125.
16. Розов В. Иркутская история / В. Розов // Театр – 1960. – № 6 – С. 80-81
17. Рудницкий К. Иркутская история /К.Рудницкий // Театр – 1960 – №3. – С. 85-86
18. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. / Сост. Ю. С. Рыбаков. 2-е изд. доп. и испр. Кн. 1. О профессии режиссера / Г.А. Товстоногов – М.: Искусство, 1984.
19. «Иркутская история» – новый спектакль театра имени Евг. Вахтангова // Восточно-Сибирская правда – 1959. – 29 декабря (№305)
14. Зубков Ю. Встретились три человека… / Юрий Зубков // Советская культура. – 5 января 1960 г. (№2)
15. Пыжова О. Иркутская история/ О. Пыжова // Театр. – 1961. – №4. – С. 124-125.
16. Розов В. Иркутская история / В. Розов // Театр – 1960. – № 6 – С. 80-81
17. Рудницкий К. Иркутская история /К.Рудницкий // Театр – 1960 – №3. – С. 85-86
18. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. / Сост. Ю. С. Рыбаков. 2-е изд. доп. и испр. Кн. 1. О профессии режиссера / Г.А. Товстоногов – М.: Искусство, 1984.
19. «Иркутская история» – новый спектакль театра имени Евг. Вахтангова // Восточно-Сибирская правда – 1959. – 29 декабря (№305)
Статья написана для сборника «Александр Вампилов и Валентин Распутин: творческий потенциал "иркутской истории"»: материалы Междунар.науч. конф. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; [отв. ред. И.И. Плеханова]. -Иркутск - Изд-во ИГУ, 2017. 353 с.
Версия, приведённая на сайте, отличается от печатной.
Версия, приведённая на сайте, отличается от печатной.
Другие публикации

